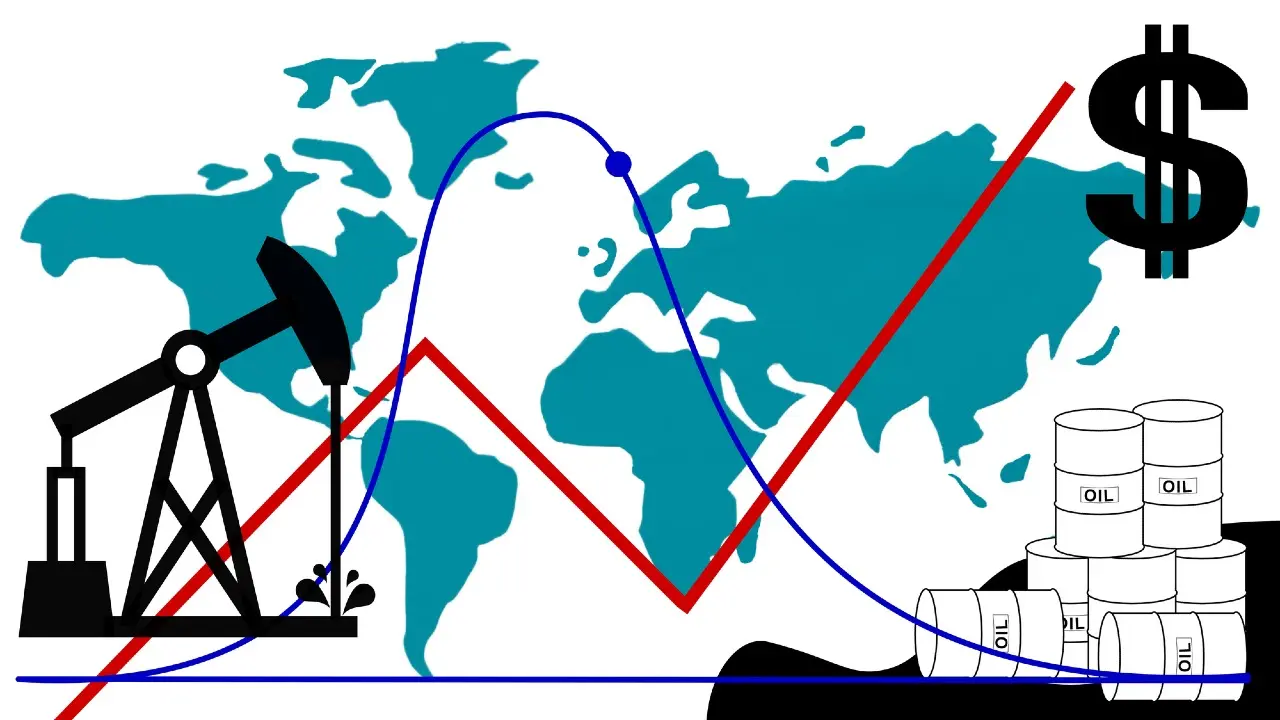
Мировой нефтяной рынок всё чаще реагирует не на экономику, а на геополитику. История вокруг Венесуэлы вновь напомнила, насколько хрупким остаётся баланс спроса и предложения и как локальные события могут иметь долгосрочные последствия. Напомним, США атаковали Венесуэлу 3 января. В тот же день Дональд Трамп назвал операцию против Венесуэлы успешной, сообщив, что президента Венесуэлы вместе с женой захватили и вывезли из страны. Он заявил также, что США будут управлять Венесуэлой в период перехода власти. За пару месяцев до операции президент США объявил о полном закрытии неба над Венесуэлой, сославшись на угрозы безопасности и обвинив Каракас в содействии наркотрафику.
На фоне структурного профицита нефти, давления на цены и усиливающихся внешних рисков всё острее встаёт вопрос устойчивости экономик стран-экспортёров. Для Казахстана эта тема приобретает особое значение: впереди – сложный 2026 год, налоговые и политические реформы, бюджетные ограничения и рост социальной чувствительности.
В интервью Informburo экономист Арман Бейсембаев объясняет, почему венесуэльский фактор важен не сегодня, а на горизонте нескольких лет, как падение цен на нефть может отразиться на курсе тенге, инфляции и доходах казахстанцев и почему реформы становятся неизбежными именно в период ухудшения внешней конъюнктуры.
– Арман, ситуация вокруг Венесуэлы всплыла в повестке нефтяных рынков. Насколько её влияние на мировые цены оказалось серьёзным, на ваш взгляд?
– Когда вышла новость, что пошёл обстрел территории Венесуэлы, а через час появилась информация, что Мадуро был захвачен, и все эти новости транслировал сам Трамп – он же любит это делать, на рынке нефти особо реакции не наблюдалось. Был небольшой, если это можно назвать, скачок, буквально на пару долларов, цена подросла с 60 до 62 долларов за баррель, на следующий день на пару долларов снова упала. В итоге мы оказались там, где и были, сейчас стоимость нефти уже ниже 60 долларов за баррель. Это говорит о том, что рынок событие воспринял по большому счёту нейтрально.
Это не то событие, которое может прямо здесь и сейчас поменять расклад, внести дисбаланс, спровоцировать какой-нибудь кризис, как это происходило, когда началась война в Украине (вот это действительно оказалось шокирующим событием). В данном случае, это очень локальная история, тем более в краткосрочной перспективе, не несущая в себе каких-то серьёзных дестабилизирующих последствий. Прирост, который, казалось бы, был, не развился.
– Какие факторы сегодня в наибольшей степени влияют на поведение нефтяных рынков и динамику цен?
– ОПЕК в своей политике сейчас больше ориентируется на наращивание добычи. Формально последние квоты страны – участницы организации пересматривать не стали, но тем не менее почти весь объём, который сокращался в 2019–2020 годах, сегодня уже фактически возвращён на рынок.
Прежде всего это делает Саудовская Аравия, потому что именно она больше всех понесла ущерб от этих сокращений. Она сильнее других сокращала добычу и теперь, соответственно, первой вернулась на рынок. Здесь есть и геополитические моменты, но ключевая логика именно в этом.
При этом договорённости в рамках ОПЕК+ по факту соблюдаются слабо. Это касается и России, и Казахстана, и Ирака, и Ирана. Во многих случаях речь идёт даже не о нежелании, а об объективной невозможности строго придерживаться квот, потому что этим странам нужны деньги. Тот же Ирак прямо говорит: мы только-только наращиваем объёмы добычи, а вы предлагаете нам сокращать – на это мы не пойдём. Были примеры, когда отдельные страны в прошлом или позапрошлом году вообще выходили из ОПЕК+ именно для того, чтобы не быть связанными этими квотами.
Если говорить о крупнейших производителях, то Россия сократила добычу, однако это сокращение было относительно небольшим, около 500 тысяч баррелей в сутки. И произошло оно не из-за стремления продемонстрировать дисциплину или солидарность в рамках ОПЕК+, а по вынужденным причинам. Речь идёт о санкциях ЕС, эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов, а также разрыве части долгосрочных контрактов. После потери европейского рынка значительная часть экспортных объёмов оказалась невостребованной, возник избыток нефти, резко выросли логистические издержки, а Китай физически не способен поглотить весь объём российской добычи даже при наличии спроса.
Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти, однако это не означает долгосрочной зависимости от одного поставщика. В Пекине хорошо понимают важность диверсификации энергопоставок. Опыт Европы, которая долгое время была привязана к российским нефти и газу и столкнулась с серьёзными проблемами после начала войны, для Китая служит наглядным предупреждением. Кроме того, у Китая есть собственный сложный исторический опыт взаимодействия с Россией, и там ясно осознают, что градус партнёрских отношений может меняться.
Основная причина закупок российской нефти – значительный дисконт. На фоне санкций и ценового потолка она стала для Китая дешёвым и выгодным ресурсом. При этом Китай последовательно диверсифицирует импорт, активно работая и с другими поставщиками санкционной нефти, включая Иран и Венесуэлу, что позволяет ему снижать риски и сохранять гибкость в энергетической политике.
Отдельно важно понимать, что нефтяной рынок – это не про споты. Здесь всё завязано на долгосрочные контракты. Поставки контрактуются не на месяц и даже не на квартал, а на годы вперёд. Например, значительная часть казахстанской нефти законтрактована на несколько лет, потому что это вопрос стабильности поставок. Международные компании, работающие на Каспии и на каспийском шельфе, вообще действуют в рамках соглашений о разделе продукции, которые заключаются на десятилетия. Именно поэтому перераспределение потоков нефти происходит очень медленно и рынок не может быстро реагировать на изменения конъюнктуры.
В результате всего этого сегодня в мире совокупно добывается нефти больше, чем её успевают потреблять. Все излишки отправляются в нефтехранилища, и это сразу отражается в статистике: объёмы запасов растут. Это означает, что на рынке сформировался структурный профицит. Нефти больше, чем нужно рынку. Когда предложение устойчиво превышает спрос, цена как минимум не растёт. Геополитические факторы могут давать краткосрочные всплески, как это бывает из-за новостей о конфликтах или рисков перебоев поставок, но эти эффекты быстро сходят на нет. Базовая картина остаётся прежней: структурный профицит нефти продолжает оказывать давление на рынок и сдерживать рост цен.
– Если Венесуэла нарастит экспорт нефти, какой эффект это может дать для глобального баланса спроса и предложения?
– В долгосрочной перспективе рынок, безусловно, будет учитывать Венесуэлу, но по другим причинам.
Теоретически США могут вывести на рынок дополнительные объёмы венесуэльской нефти в размере до 2 млн баррелей в сутки. Однако это невозможно сделать быстро. Дело в том, что нефтяная отрасль Венесуэлы в своё время была национализирована. Это произошло ещё при Уго Чавесе, а затем эта политика была продолжена при Николасе Мадуро. Американские компании вытесняли с рынка, их активы и нефтяную инфраструктуру изымали. Ставку делали на то, что страна сможет самостоятельно добывать нефть и получать доходы без участия иностранных игроков.
В итоге это привело к системным проблемам. Имеющиеся активы начали просто эксплуатировать без необходимых инвестиций, управленческих компетенций и современных технологий. Собственной технологической базы у Венесуэлы не было, а доступ к внешним технологиям оказался ограничен. Практически сразу страна столкнулась с санкциями, поскольку национализация сопровождалась нарушением прав собственности и изъятием капитала.
Уже при Уго Чавесе нефтяная промышленность начала постепенно деградировать, со временем этот процесс только усиливался.
Технологии постепенно устаревали, оборудование выходило из строя, его пытались временно ремонтировать, но это не решало проблему, поломки учащались. В результате нефтяная отрасль всё глубже входила в фазу деградации.
Пик добычи нефти в Венесуэле пришёлся примерно на 30 лет назад, когда страна добывала до 2,5 млн баррелей в сутки. Уже при Мадуро объёмы добычи начали последовательно сокращаться и продолжали снижаться из года в год. В итоге они опустились примерно до уровня 800 тысяч баррелей в сутки.
В 2021 году была показательная ситуация, когда объём добычи нефти в Венесуэле фактически опустился до нуля. Нефтяная страна в тот момент не добывала нефть. Это выглядело почти абсурдно и хорошо иллюстрировало глубину кризиса отрасли. Сейчас добыча восстановлена лишь частично и держится на минимально возможном уровне.
Все последующие попытки вернуть контроль над венесуэльскими нефтяными активами во многом объясняются именно их стратегической ценностью. Речь идёт о стремлении получить доступ к запасам и инфраструктуре, чтобы возобновить добычу. Это в первую очередь бизнес-логика без каких-либо дополнительных мотивов.
При этом даже в случае политических решений и заявлений о восстановлении разрушенной инфраструктуры быстро изменить ситуацию не получится. В долгосрочной перспективе восстановление нефтяной отрасли займёт много времени. Резко нарастить объёмы добычи нефти в Венесуэле невозможно ни технически, ни технологически, поэтому в ближайшие годы она не станет значимым источником дополнительного предложения на мировом рынке.
Есть ещё один момент, который пока остаётся спорным и во многом неопределённым. Речь идёт о свойствах венесуэльской нефти и о том, как рынок сможет с ней работать. Считается, что венесуэльская нефть очень тяжёлая. Она сложна как в добыче, так и в транспортировке и переработке. По своей консистенции она значительно гуще, чем, например, ближневосточная нефть или лёгкие сорта российской нефти, включая Urals.
Тяжёлая нефть требует применения специальных технологий уже на этапе добычи. Её сложно извлекать из пласта, затем сложно транспортировать и ещё сложнее перерабатывать. В процессе переработки образуется большое количество остаточных продуктов. Прежде всего это мазут и парафин.
С одной стороны, это может быть плюсом, поскольку такие продукты используются в энергетике, на котельных и ТЭЦ, а также в производстве масел и других нефтепродуктов. С другой стороны, возникает вопрос сбыта. Если у мазута нет достаточного рынка, глобальная энергетика постепенно смещается в сторону газа и возобновляемых источников, то и спрос на такие продукты остаётся ограниченным. Премиальные рынки для них во многом закрыты, и это создаёт дополнительные ограничения для венесуэльской нефти.
Реальные оценки предполагают, что первые результаты можно будет оценивать не раньше, чем через полгода. Во втором полугодии станет понятно, насколько эффективно идёт восстановление инфраструктуры.
Даже этот сценарий возможен только при условии политической стабильности внутри страны и отсутствии серьёзных внутренних конфликтов. Если этих рисков удастся избежать, то Венесуэла сможет постепенно восстановить часть добычи и начать возвращение на рынок. При этом большинство сырьевых экспертов считают, что речь идёт скорее о горизонте 2027 года, а не о ближайших месяцах.
В 2026 году эта история никак себя не проявит. Именно поэтому сейчас можно говорить не о краткосрочном, а о долгосрочном эффекте. Если в перспективе венесуэльская нефть начнёт дополнительно выходить на рынок, рынок неизбежно будет на это реагировать.
При уже существующем структурном профиците нефти появление дополнительных объёмов создаст серьёзное давление на цены. В таком сценарии удержание уровня даже в 60 долларов за баррель станет проблематичным, а вероятнее всего, рынок не сможет удержаться и на отметке 50 долларов за баррель. Цена может уйти значительно ниже.
С точки зрения США, это выгодная ситуация. Она невыгодна американским нефтедобывающим компаниям, но выгодна нефтеперерабатывающим предприятиям и промышленности в целом. Уже сейчас, на фоне цен около 60 долларов за баррель, стоимость бензина в Соединённых Штатах вернулась к прежним уровням и заметно снизилась.
Именно этого добивался Дональд Трамп, когда пришёл в Белый дом в январе прошлого года. Он обещал американским избирателям дешёвые энергоносители и доступный бензин, а промышленности – низкие энергетические издержки, возможность строить новые заводы и фабрики, работать в условиях относительно дешёвого доллара. По сути, эта стратегия направлена на то, чтобы американская промышленная продукция стала более конкурентоспособной, и именно эту политику он последовательно реализует.
Есть и другая логика, о которой Трамп говорил. По его словам, война России с Украиной продолжается потому, что у России есть финансовые ресурсы. Если лишить её этих денег, война закончится. Основной источник доходов России – экспорт нефти. Когда нефть была дорогой, Россия зарабатывала значительные средства. Отсюда и вывод: если обрушить цены на нефть, у России сократятся доходы, и она будет вынуждена пересмотреть свою политику. В этом подходе есть своя логика.
На практике снижение цен на нефть уже становится для России болезненным. Российская нефть в Китае продаётся с дисконтом, превышающем 20%, а по отдельным контрактам цена опускается до уровня около 30 долларов за баррель. Возникает вопрос, что произойдёт, если мировые цены снизятся до 40 долларов. В таком случае китайская сторона логично потребует ещё больший дисконт: покупать нефть по 40 долларов никто не будет, будут настаивать на цене в районе 20 долларов за баррель.
У России в этой ситуации практически нет пространства для манёвра. Альтернативных рынков немного, и ей придётся соглашаться на дополнительные скидки, фактически продавая нефть себе в убыток. Цена около 20 долларов за баррель для российской экономики является крайне тяжёлым сценарием.
– Как возможное дальнейшее снижение мировых цен на нефть, в том числе из-за венесуэльского сценария, может отразиться на экономике Казахстана и устойчивости бюджета?
– Подобное развитие событий будет болезненно не только для России. Для нас такая динамика тоже неблагоприятна. Уже сейчас уровень около 60 долларов за баррель нельзя назвать комфортным. Чем выше цена на нефть, тем лучше для экспортёров. Если же цены начнут снижаться ещё сильнее, то последствия будут гораздо более тяжёлыми.
Для Казахстана ситуация уже сейчас достаточно болезненная, хотя мы не всегда готовы это прямо признать. Пока ничего критического не происходит, но дискомфорт очевиден. Речь идёт о недополученных доходах, а значит, о недополученных поступлениях в бюджет. При том что дефицит бюджета у нас уже есть и финансовых ресурсов не хватает.
Казахстан остаётся социальным государством, поэтому все социальные обязательства необходимо выполнять. Это пенсии, пособия, заработные платы. В итоге снижение нефтяных доходов будет каскадно передаваться дальше и в конечном счёте ударит по обычным людям. В этом и заключается ключевая проблема.
Самый прямой и самый быстро заметный эффект при серьёзном падении цен на нефть – это валютный курс. Ослабление будет достаточно резким, уйдёт к уровню около 100 за доллар. Казахстанский тенге в таком сценарии может ослабнуть выше отметки 550 за доллар.
– Как в полугодовой перспективе возможные колебания нефтяных цен могут отразиться на динамике курса доллара?
– При условии, что цены на нефть опустятся в район 50 долларов за баррель, рубль, вероятнее всего, ослабнет и уйдёт в район 100 рублей за доллар. Для Казахстана это будет означать дополнительное давление на тенге.
На текущий год я вижу верхний ориентир в диапазоне около 580 тенге с риском краткосрочного ухода в район 610. Такой сценарий возможен при условии, что цены на нефть опустятся до 40 долларов за баррель. В этом случае давление на курс будет сильным, а обесценение национальной валюты станет заметным.
Рост доллара почти сразу отразится на инфляции. С учётом высокой импортозависимости казахстанской экономики курсовой эффект быстро трансформируется в рост цен. Это будет инфляция по широкому кругу товаров и услуг, фактически по всему потребительскому рынку.
Если уточнять горизонт, то уровень около 610 тенге за доллар возможен уже к концу года при неблагоприятном ценовом сценарии на нефтяном рынке.
– Как вы оцениваете перспективы евро в горизонте ближайших шести месяцев: есть ли у него собственные драйверы роста или он по-прежнему будет двигаться вслед за долларом?
– Если говорить о курсе евро, то, откровенно говоря, для экономики Казахстана это не имеет принципиального значения. Мы не сильно зависим от евро, и его колебания почти не оказывают прямого экономического эффекта.
Для понимания волатильности достаточно посмотреть на динамику прошлого года. В октябре мы видели пик в районе 640–645 тенге за евро, после чего курс снижался почти до 594. Это довольно резкие движения. При этом для евро подобные скачки являются обычным явлением. Уйти, условно, с уровня около 595 в район 650 евро может за считаные недели.
Однако высокая волатильность евро объясняется не его значимостью, а наоборот, низким спросом. Если посмотреть на ежедневные объёмы торгов по паре евро – тенге, то они крайне малы. Фактически это копеечные объёмы. Именно поэтому курс легко раскачивается и реагирует на рыночные колебания.
Прямого влияния на экономику Казахстана курс евро почти не оказывает. Как фактор он практически не существует. Движение евро к тенге формируется в основном механически через сочетание двух валютных пар: доллар – тенге и евро – доллар. Соотношение этих двух курсов и задаёт динамику евро – тенге.
Именно поэтому изменения курса евро можно рассматривать скорее, как рыночную производную, а не как самостоятельный экономический индикатор для Казахстана.
– Что в ближайшие полгода будет сильнее влиять на курс тенге: внешние факторы (нефть и доллар) или внутренние решения по бюджету, инфляции и денежно-кредитной политике?
– Однозначно могу сказать одно: 2026-й для Казахстана действительно будет судьбоносным. Об этом говорил и президент, и с этим сложно спорить. Мы входим в период парламентской реформы, вероятной конституционной реформы, и всё это будет происходить на фоне падающих цен на нефть, ослабления тенге и снижения уровня жизни населения. Это не просто фон, это потенциальные последствия, которые могут усилить друг друга.
Параллельно запускается налоговая реформа, и её реальный эффект для экономики пока до конца не просчитан. Формально ставка НДС выросла с 12 до 16%, и это подаётся как умеренное изменение. Но в реальности речь идёт о росте налоговой нагрузки примерно на треть. В процентных пунктах это плюс четыре, а в процентном выражении это плюс 33%. Это принципиально разные вещи.
Кроме того, есть ограничения по зачёту НДС. В ряде видов деятельности зачёт невозможен, а значит, налог ложится на бизнес напрямую. В результате предприниматели уже сейчас вынуждены перекладывать эти издержки на клиентов. Я слышу это в разговорах с бизнесом. Люди прямо говорят, что из-за новой налоговой конструкции вынуждены повышать арендные ставки на 40–45%, при том что эти деньги не становятся их прибылью, а почти полностью уходят в бюджет.
По отдельным категориям товаров рост цен может составить 30–40%. Аналогичная ситуация складывается в сфере услуг, особенно там, где малый бизнес взаимодействует с крупным. Индексация цен в таких связках происходит почти автоматически. Это и есть тот самый каскадный эффект, который не всегда виден на старте реформы, но проявляется очень быстро.
Логику Министерства нацэкономики я понимаю. Аргумент заключается в том, что бизнес массово дробился для оптимизации налогов, и запрет на взаимозачёт НДС должен был заставить его укрупняться и становиться более прозрачным. Звучала даже оценка, что до 300 тысяч ИП и малых предприятий могут закрыться, поскольку они фактически были элементами дробления крупного бизнеса. Этот запрет вводится осознанно, и власти не собираются его снимать.
Проблема в том, что дробились далеко не все. Существовал и реальный малый бизнес, который работал самостоятельно и честно. Например, небольшие поставщики товаров для крупных торговых сетей. Теперь эти цепочки разрушаются. Крупные сети отказываются работать с малыми предпринимателями, потому что покупка у них означает дополнительную налоговую нагрузку. В итоге предприниматель, который годами выстраивал бизнес на поставках в сеть, лишается рынка сбыта и вынужден закрываться.
Дальше эффект идёт по цепочке. Исчезает спрос у его поставщиков, у мелких производителей, у торговцев, у логистики. В результате с рынка начинают уходить реальные малые предприниматели, а вместе с ними исчезают товары, которые раньше были доступны потребителю. Это прямое сокращение ассортимента и рост цен.
Насколько устойчиво экономика выдержит этот набор, пока сказать сложно. Реформы в принципе редко проходят безболезненно, и никто не гарантирует, что на выходе станет лучше. Наша ключевая задача – пройти этот период без разрушительных социальных и экономических последствий.
– Можно ли сказать, что Казахстан оказался в точке, где реформы становятся неизбежными, даже несмотря на риск ошибок и ухудшения ситуации в краткосрочной перспективе?
– Реформы, если честно, чаще обречены на провал, чем на успех. Никто не может гарантировать, что, начав реформировать экономику, мы получим положительный результат. Сам факт реформы ещё не означает, что на выходе станет лучше. Это ключевая иллюзия, в которую многие продолжают верить.
Да, власти говорят, что экономику необходимо менять. Вице-премьер Серик Жумангарин прямо заявляет, что страна фактически превратилась в налоговую гавань, бизнес дробится, система искажена и так дальше продолжаться не может. С этим трудно спорить. Но возникает принципиальный вопрос: кто сказал, что после реформы ситуация улучшится? Реформа будет проведена, но её итог заранее не гарантирован.
Мировая практика показывает, что реформы нередко приводят не к оздоровлению, а к затяжному кризису. Классический пример – Аргентина. Это страна бесконечных реформ. Социалисты сменяются либералами, сейчас у власти либертарианец Хавьер Милей, и снова начинается очередной раунд преобразований. При этом страна уже более сорока лет живёт в состоянии хронического кризиса и пять раз объявляла дефолт. Это наглядный пример того, как реформы могут не спасти, а усугубить ситуацию.
Поэтому главная задача Казахстана – не скатиться по этому пути и не превратиться ни в Венесуэлу, ни в Аргентину. Никто не обещал, что у нас всё получится. Итоги будем оценивать только постфактум.
При этом есть и обратная логика. Если исходить из того, что цены на нефть в ближайшие годы вряд ли будут расти и, скорее всего, будут снижаться, то возникает вопрос: когда, если не сейчас, проводить реформы? Когда нефть стоит по 100 долларов за баррель, бюджет наполняется сам, денег достаточно и мотивации что-то менять просто нет. Реформы всегда начинаются тогда, когда становится плохо.
Сейчас становится плохо. В бюджете дефицит, накопленные резервы постепенно проедаются, а источники их пополнения неочевидны. Доходы от нефти снижаются, а это означает давление на уровень жизни населения. В прежней экономической модели, основанной на нефтяных доходах, страна больше жить не может. Эту модель приходится менять. Серик Жумангарин, по сути, взялся за это, понимая масштаб проблемы.
– Насколько хрупкой сейчас выглядит социальная стабильность?
– Получится или нет – большой вопрос. История показывает, что бедность часто ведёт к социальным потрясениям, а потрясения в свою очередь усугубляют бедность. Пока революционной ситуации не видно. Недовольство есть, но того уровня социальной "взрывоопасности", который ощущался осенью 2021 года, сейчас не наблюдается.
Важно понимать, что серьёзные кризисы почти всегда сопровождаются внутриэлитными конфликтами. В январе 2022 года именно внутреннее противостояние элит стало тем триггером, который наложился на социальное недовольство и привёл к взрыву. Сегодня такого конфликта не просматривается. Президент Касым-Жомарт Токаев за последние годы в значительной степени консолидировал власть, и этот процесс близок к завершению.
На этом фоне и появилась идея парламентской реформы. Она выглядит логичным следующим шагом в перестройке политической системы. Будет ли это переход к однопалатному парламенту и какую роль в этой конструкции сыграет сам президент после 2029 года, пока вопрос открытый. Политика знает немало примеров, когда публичные обещания и реальные сценарии расходились.
Всё это будет происходить на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Рост налогов, давление на бизнес, возможное падение цен на нефть, курсовые риски, инфляция, рост цен на ГСМ и ЖКХ – всё это накладывается друг на друга. Если малый бизнес начнёт массово закрываться, а в нём занято до 40% работающего населения, это создаст риск роста безработицы уже в номинальном выражении.
Прогнозы по инфляции выглядят чрезмерно оптимистичными. Говорить о диапазоне 9–12%, на мой взгляд, слишком смело. Я вижу более реалистичный коридор в районе 13–15% по итогам года. Причём это будет официальная, усреднённая инфляция. Реальные ощущения людей будут жёстче.
Эффект от повышения НДС сам по себе даёт рост цен на 30–40% в тех сегментах, где налог нельзя зачесть. Если к этому добавится рост цен на топливо и коммунальные услуги, получится многослойное давление на стоимость товаров и услуг. Это будет ощущаться практически везде, потому что логистика и энергия присутствуют в каждой цене.
Вполне возможно, что до марта инфляцию будут удерживать административно, за счёт заморозки тарифов. Но дальше решение придётся принимать. Заморозку можно продлевать, но это лишь откладывает проблему. Я считаю, что в какой-то момент этот мораторий всё равно придётся снимать и позволить ценам отразить реальность. Это будет болезненно, но без этого лечение невозможно.
2026 год обещает быть очень непростым. Риски велики, реформы сложны, а внешняя среда неблагоприятна. Насколько устойчиво страна пройдёт этот период, станет понятно уже в ближайшие месяцы.
-
1🔖Справку о годности к воинской службе теперь можно получить на портале e-Gov
-
10527
-
1
-
10
-
-
2🚘 Время для прогрева авто зимой будут устанавливать регионально: Токаев подписал закон
-
3007
-
0
-
20
-
-
3👀 Банки спишут кредиты? В АРРФР прокомментировали слухи в социальных сетях
-
2738
-
0
-
17
-
-
4😔 Двойное убийство в Кызылорде: мать и дочь погибли от рук соседа
-
2768
-
3
-
50
-
-
5😱 Поножовщина в Экибастузе: мужчина погиб, женщину доставили в больницу
-
2858
-
1
-
39
-
-
6🤩 Редкий парад планет смогут увидеть жители Земли 22 января
-
2936
-
1
-
19
-
-
7⚠️ Доброе утро! Предлагаем обзор главных новостей за 9 января
-
2697
-
0
-
7
-
-
8🧮 В КГД объяснили причины отказов при переходе на упрощёнку
-
2926
-
1
-
12
-
-
9🌡Друзья, морозы потихоньку отступают на севере и востоке страны!
-
2847
-
0
-
5
-
-
10🤦♀️Морковь под запретом, или Как решения чиновников разгоняют цены и бьют по отечественному АПК
-
2792
-
1
-
25
-
 USD:
511.3 / 515.3
USD:
511.3 / 515.3
 EUR:
594.5 / 599.5
EUR:
594.5 / 599.5
 RUB:
6.29 / 6.49
RUB:
6.29 / 6.49



